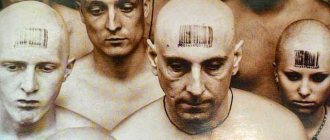Экспрессивная лексика разговорного употребления
Семантический диапазон ЭЛЕ разговорного употребления довольно широкий: от (а)единиц с «полновесным» денотативно-сигнификативным содержанием, часто не имеющих формальных показателей экспрессивности, находящихся на границе с неэкспрессивными, номинативными, ЛЕ и нередко получающих неодинаковые стилистические и эмоционально-оценочные интерпретации в толковых словарях (это, как правило, неодушевленные существительные, прилагательные, глаголы, наречия), до (б) единиц с размытым или даже «пустым» денотативно-сигнификативным содержанием, «привязанных» к определенной эмоциональной коммуникативной ситуации и вследствие этого находящихся на границе с междометиями. Приведем примеры более или менее семантически близких ЛЕ с их стилевыми и эмоционально–оценочными пометами из одного и того же словаря – «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 1997 г. издания (далее – СОШ):
(а) разгильдяйство
разг., презр., аналогичные по структуре и близкие по семантике
ротозейство
,
головотяпство
,
верхоглядство
зафиксированы в словаре только с пометой разг., ср. соответствующие производящие слова:
разгильдяй
разг.,
ротозей
разг., неодобр.,
головотяп
разг., презр.,
верхогляд
разг.; другие примеры:
анонимка
‘анонимное письмо, сообщающее о ком-н. что-н. обидное, неприятное, компрометирующее’разг., неодобр., но
фальшивка
‘фальшивый, подложный документ’ – только пометаразг.,
подделка
‘подделанная вещь, имитация’ – без помет;
сговор
‘соглашение в результате переговоров’ обычно неодобр., но
сделка
‘неблаговидный, предосудительный сговор’ – без помет;
маниловщина
неодобр., но
обломовщина
,
хлестаковщина
– без помет (кстати, суффикс —
щин-
в подобных ЛЕ В.В. Виноградов относил к экспрессивным);
(б) ахинея
разг. ‘вздор, бессмыслица’,
бред
разг. ‘нечто бессмысленное, вздорное, несвязное’,
вздор
разг. ‘нелепость, глупость, ерунда’;
ерунда
разг. 1.‘Вздор, пустяки, нелепость’
(Молоть всякую ерунду.)
. 2. ‘О чем-н. несущественном, незначительном’
(
“
Сильно порезался?
”
–
“
Ерунда!”)
;
чушь
разг.‘ерунда, нелепость’;
кошмар
в знач. сказ.‘о чем-н., проявляющемся сильно или о большом количестве кого-чего-н.’ прост., обычно неодобр.
(Денег потратили – кошмар!; А вещей ненужных повыбрасывали – просто кошмар!)
, а также употребляется в качестве междометия
(На улице холодно
–
кошмар!)
;
ужас
в знач. сказ. ‘о чем-н. изумляющем, необычном по своим положительным или отрицательным свойствам, а также о большом количестве кого-чего-н’, разг. (ср. диал. контексты:
Ужас какая грязь у них в доме!
/
Не хочется туда заходить
;
На свадьбу он
[жених]
скоко шариков накупил!
/
Ужас!); беда
в знач. сказ. ‘очень много’ прост.
(Людей там – беда!)
; в диалектной речи употребляется в качестве междометия
(Но’нче скоко грибов уродилось / всё лето таскали их / прямо беда!)
. Замечу, что в разных словарях одно и то же слово может иметь различные интерпретации в аспекте их экспрессивного и стилистического потенциала, но здесь соответствующий материал не приводится
1. Дискуссионные моменты интерпретации экспрессивности
как категории лексикологии
Существуютопределенныетрудности интерпретации экспрессивности лексики как категории в аспекте ее семантики. Это можно объяснить рядом причин.
Во-первых, в когнитивном аспекте ЭЛЕ репрезентируют результаты как логической, так и эмоционально-психической деятельности сознания в их целостности. В лексикологии (семасиологии и ономасиологии) они (результаты) именуются терминами денотативно–сигнификативное (объективное) и коннотативное (субъективное) содержание (значение, семантика) слова. Но разграничение этих двух гетерогенных частей единой, неделимой сущности – лексического значения (далее – ЛЗ) слова – не имеет под собой достаточно убедительных критериев и нередко носит субъективный характер. Так, известно, что оценки, репрезентируемые словами, философы, а вслед за ними и лингвисты разделяют на логические и эмоциональные: первые относятся лингвистами к денотативно–сигнификативной части ЛЗ слова, вторые – к коннотативной. Ср. следующие оппозиции однокоренных и разнокоренных слов с семами ‘логическая оценка (положительная или отрицательная)’ – ‘эмотивная оценка (положительная или негативная)’: добрый
,
доброта
–
добрейший
,
добряк
;
злой
,
злость – злющий
,
злюка
,
злючка
,
злодей
;
глупый
–
глупец
,
глупость (Не рассказывай ты мне эти глупости
; «
А если все узнают о твоем отъезде
?» – «
Глупости!»)
;
бездарный
–
бездарь
;
вкусный – вкуснятина
;
ароматный
–
вонючий
,
зловонный
;
ссора
,
скандал
–
буза
,
базар
,
бедлам
,
балаган
,
бенефис
ирон.,
цирк
,
катавасия
шутл.,
тарарам
. Точно так же сему ‘высокая степень проявления признака предмета, явления’ можно квалифицировать как сигнификативную и как коннотативную. Ср. следующие оппозиции слов: с общим семами ‘очень спешная работа’:
аврал – гонка
,
горячка
,
лихорадка
,
штурмовщина
; с архисемой ‘сильный по степни своего проявления’
сильный – адский
,
дьявольский
,
чертовский
,
чудовищный
,
ужасный
,
безумный
,
идиотский
(боль, нежность, гордость, скорость, аппетит, голод, холод, погода, ветер); с архисемой ‘большое количество однородных предметов’
много, множество
–
лавина
(чувств, вопросов, покупок), ‘множество лиц’ –
созвездие дураков
,
бездельников
,
джинсовых созданий
,‘множество натурфактов’ –
табун / табуны васильков
,
елочек
,
облаков
,
бабочек.
Во-вторых, образность как один из компонентов значения тоже свойственна словам с денотативной семантикой и словам с коннотативной семантикой. Ср. пары однокоренных слов с номинативным и экспрессивным значением: змеевик
‘изогнутая спиралью трубка’ –
змеюшник
‘собравшиеся вместе злые, враждующие друг с другом люди’;
окаменелые
(кости) –
окаменеть
(от горя);
нескладный
‘c недостатками, внутренними изъянами’ –
нескладица
(жизни) (
Он
[Юра]
привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы
[в семье]
отсутствие отца не удивляло его
(Б. Пастернак. Доктор Живаго));
нервничать – нервотрёпка; вихриться
(о пыли, снеге) – диал.
завихе’ривать
‘быстро идти, бежать, торопиться’
(Вон бабка как завихеривает!)
.
Следовательно, сохраняется проблема поиска критериев отнесения названных сущностей к денотативно-сигнификативной и коннотативной части ЛЗ слов. Кроме того, высказывается мнение о том, что, кроме суффиксов субъективной оценки, не существует других «собственных средств» (не считая стилистических фигур и приемов речи) выражения экспрессивности. [Телия 1991б: 33]. В своей более ранней монографии В. Н. Телия также подчеркивает «тропоморфный и словообразовательный способы образования экспрессивной окраски», и в то же время утверждает, что «главенствующая роль» в создании экспрессивной окраски «принадлежит метафоре как самому простому по композиции, а потому безошибочно воспринимаемому приему переосмысления и усиления образного сигнала» [Там же: 1986: 71]. С мнением В. Н. Телия о «главенствующей роли» метафоры в создании
,
порождении
«экспрессивного эффекта», конечно, нельзя не согласиться. Ее работы, посвященные экспрессивной семантике лексики и фразеологии, являются блестящим обоснованием данного положения. Однако мнение об отсутствии «собственных средств»
выражения
экспрессивности, кроме суффиксов субъективной оценки, спорное.
В-третьих, те признаки, которые участвуют в порождении экспрессивности, относят к коннотативной части (коннотации) лексических значений слов. Дискуссионно, по нашему мнению, широко распространенное утверждение о том, что коннотация, а следовательно, и экспрессивность, является дополнительным содержанием (разрядка моя – Н. Л.
) слова, «его сопутствующими семантическими или стилистическими оттенками, которые накладываются на его основное значение» [Ахманова 1966: 203–204], а также и утверждение о том, что «фонд экспрессивных языковых средств дополнителен (разрядка моя –
Н. Л.
) по отношению к нейтральным общеупотребительным, по самой своей идее он настроен на более редкое использование: экспрессивность «прямо пропорциональна необычности, нестандартности, редкости слова, словосочетания, морфемы, конструкции» [Матвеева 2003: 404]. Представление о дополнительности, «неглавности» коннотации в структуре ЛЗ слова демонстрирует соответствующая терминология, привнесенная в лексикологию из лингвостилистики: экспрессивность называют
оттенком значения
,
окраской
,
окрашенностью
,
ореолом
, тем самым интерпретация экспрессивности выводится из системно–семантического русла в лингвостилистическую сферу.
В-четвертых,. ЭЛЕ стилистически маркированы (значимы, окрашены). Дискуссию вызывает вопрос о статусе стилевого свойства ЭЛЕ: одни лингвисты выделяют стилистическую маркированность в качестве компонента («стилевого компонента», по Матвеевой) значения ЭЛЕ, например, В. Н. Телия [Телия 1991а: 40–41], Т. В. Матвеева [Матвеева 2003: 112]; другие исследователи не включают стилевую окрашенность в значение, называя ее значимостью, например, Л.М. Васильев [Васильев 1985: 5]. А Е. Р. Курилович считает, что «экспрессивные формы и стилистические варианты <�…> можно было бы объединить общим термином стилистических в широком смысле слова» [Курилович 1955: 76]. Как известно, еще Ш. Балли, заложивший основы экспрессивной стилистики, ее предметом считал «экспрессивные факты языковой системы с точки зрения их эмоционального содержания, то есть выражение в речи явлений из области чувств и действие речевых фактов на чувства» [Балли 2001: 33]. Следовательно, сохраняет актуальность проблема отграничения экспрессивности от стилистической окрашенности ЛЕ.
В-пятых, не существует единого понятийно–терминологического аппарата описания экспрессивного фонда языка. Как отмечает Г. Н. Скляревская, «в целом терминологическая система категории языковой оценки (ее работа посвящена эмотивной оценке – Н. Л.
) еще не сформировалась, иерархически не выстроена, за каждым термином не закреплено одно и только одно значение и, напротив, за каждым языковым фактом – только один термин. Терминологическая полисемия и синонимия препятствуют всякий раз уточнять и определять выбранные им (исследователем –
Н. Л.
) термины» [Скляревская 1997: 171]. Как синонимы употребляются термины
экспрессивное значение
,
коннотативное значение
и
прагматическое значение
,
экспрессивное
и
эмоциональное
(
значение
,
слово
,
высказывание
,
выражение
),
экспрессивный
,
коннотативный
и
прагматический
(
компонент значения
,
сема
) и др.
2. Семантические основания экспрессивности лексических единиц.
Целесообразно различать термины, которые обычно используются при описании «экспрессивных» объектов. Экспрессивность может иметь системный и речевой статус, или, в терминологии О. С. Ахмановой, быть ингерентной и адгерентной [Ахманова 1966: 523], – это общеизвестное положение. Однако существует и иное мнение: экспрессивность есть чисто психологическое (не лингвистическое) явление, а поэтому оно относится только к деятельности языка
, т. е. к речи (К. Вайсгербер), проявляется в употреблении слова, «а употребление и значение слова связаны живыми нитями» [Звегинцев 1957: 171.
В нашей концепции через определение экспрессивныйипроизводноеэкспрессивностьквалифицируются системные единицы, их свойства и функции:
экспрессивность – свойство ЛЕ, а также единиц других уровней языка;
экспрессивное лексическое значение (содержание, семантика) – системное значение ЛЕ;
экспрессивная лексическая единица, экспрессивное слово, экспрессивная номинация,экспрессив – лексема и лексико-семантический вариант лексемы, обладающие свойством экспрессивности, т. е. имеющие экспрессивное значение;
экспрессивная единица языка – единица любого уровня, обладающая свойством экспрессивности;
экспрессивный лексический фонд (корпус), экспрессивная(лексическая) подсистема языка – часть лексического фонда, лексическая подсистема, которую образуют, экспрессивные лексические единицы;
экспрессивный фонд (корпус)языка – вся совокупность разноуровневых единиц, которые обладают свойством экспрессивности как элементы языковой системы;
э к с п р е с с и в н ы й к о н т е к с т – речевой или текстовый фрагмент связной устной или письменной речи, выражающий экспрессивный смысл;
э к с п р е с с и в н ы й д и с к у р с – 1) то же, что экспрессивный контекст, рассматриваемый через призму внешнего (социального) контекста (отношения говорящего к предмету речи, эмоционального состояния говорящего, отношений между говорящими, исторического фона высказывания и т. п.); 2) совокупность экспрессивных контекстов, относящихся к определенному стилю литературного языка или страте языка, например, литературно-художественный дискурс
,
литературно-разговорный дискурс
,
диалектный дискурс
,
жаргонный дискурс
и т. п.;
экспрессивная функция (функции), «экспрессивный эффект» (В.Н. Телия), – прагматическая функция (функции) экспрессивных единиц – их предназначение выражать эмоциональное состояние говорящих в момент речи, характеризовать и давать субъективные оценки окружающим предметам и другим людям, усиливать впечатление адресата от полученной им информации, воздействовать на него, побуждая к ответной реакции, и т. д. (Подробнее о функциях ЭЛЕ см. в: [Лукьянова 2008]).
Квазитермины экспрессивная окраска, окрашенность, маркированность, оттенок значения мы используем для обозначения «речевых наслоений», «приращений (обертонов) смысла», которые приобретают единицы языка в речи / тексте, не будучи экспрессивными в языке-системе. Здесь для нас авторитетным является мнение Б. А. Ларина: «Семантические обертоны – те смысловые элементы, которые нами воспринимаются, но не имеют своих знаков в речи, а образуются из взаимодействия совокупности слов» [Ларин 1974: 36], т. е. это те смысловые приращения, которые слово получает в речи под влиянием внутреннего и внешнего контекстов. Его внутренним контекстом выступают окружающие его слова, а внешним – внеязыковая ситуация. В отличие от семантических обертонов, экспрессивные компоненты значения, как и экспрессивное значение в целом, имеют знаки – это формальные средства и неформальные показатели экспрессивности (см. об этом далее). Следовательно, семантические основания экспрессивности – это органичные компоненты значения ЭЛЕ, а экспрессивная окраска относится к актуальному (речевому) смыслу языковых единиц, т. е. связана с прагматикой и стилистикой речи.
Экспрессивная лексическая единица – лексема как система ее лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ), т. е. полисемант, и отдельный ЛСВ лексемы; они обладают свойством экспрессивности в противопоставлении другому свойству лексических единиц – номинативности. Положение о экспрессивности (эмоциональности) как о свойстве языковых единиц разговорной речи, выявляемом из их противопоставления «неэкспрессивным» (логическим) фактам, как известно, было обосновано еще Ш. Балли. С его концепцией экспрессивности связан метод идентификации, на его основе разработан метод ступенчатой идентификации Э. В. Кузнецовой. Оба метода широко используются в русистике.
Номинативность – свойство ЛЕ, связанное с обозначением и называнием предметов, соотносимое с классифицирующей деятельностью сознания (денотатом и / или сигнификатом), т. е. работой левого полушария головного мозга в когнитивно-номинативном (в аспекте порождения ЛЕ) и когнитивно-коммуникативном (в аспекте функционирования ЛЕ) процессах.
Экспрессивность – свойство ЛЕ, связанное с ее способностью в образной или (реже) необразной «форме» репрезентировать субъективные аспекты восприятия человеком действительности: представления говорящих о качественно-количественных проявлениях реалий (предметов и их признаков, признаков других признаков, действий, состояний, процессов), непосредственно переживаемые эмоции, чувства говорящих, субъективные мнения, оценки о предмете речи и т. д. Данное свойство ЛЕ соотносимо с работой правого полушария головного мозга в когнитивно-номинативном и коммуникативном процессах. Экспрессивное слово, строго говоря, не соотносится с классом однородных предметов: в сознании носителей языка не существует класса дрязг
,
нерях
,
верзил
,
слюнтяев
,
дармоедов
,
дебоширов
и т. п. ЭЛЕ не столько
называет
предмет, признак, действие, явление (хотя номинативность присуща и ЭЛЕ, однако не всем и не в одинаковой степени, о чем уже говорилось в начале статьи), сколько
выражает
субъективное«я» говорящего / пишущего, т. е. человеческий фактор, поэтому экспрессивный фонд языка антропоцентричен.
Следовательно, экспрессивность как свойство ЭЛЕ мы рассматриваем в оппозиции номинативности и, соответственно, экспрессив – в оппозиции номинативу, а экспрессивную функцию (функции) – в оппозиции номинативной функции.
Иную точку зрения высказывает В. Н. Телия. Она считает, что эти две функции не равнозначны в аспекте их «сферы действия», а поэтому не могут участвовать в такой оппозиции. Номинативная функция «устанавливает отношение между именем и объектом (вычленяемым с точностью до класса)», «нацелена на вычленение и называние элементов внеязыковой реальности», а экспрессивная – между «оценочно–эмоциональным отношением субъекта и обозначаемой реальностью», «связана с выбором средств, которые удовлетворяют речевой интенции говорящего воздействовать на адресата и заставить его ‘сопереживать’ или ‘содействовать’ адресанту» [Телия 1991а: 33–34]. С этим нельзя не согласиться, коль скоро речь идет об экспрессивном тексте, их отрывках, один отрывок (экспрессивный диалогический) автор приводит для иллюстрации этого положения. Экспрессивный текст «создается отбором средств и способов ведения диалога», – пишет В. Н. Телия [Там же: 34]. Но для такого отбора должны существовать в системе языка соответствующие средства, уже «отмеченные» как ненейтральные нашим сознанием.
Нередко в качестве синонимов терминамэкспрессивный и экспрессивность употребляются номинации выразительный и выразительность. В лингвистической литературе и толковых словарях феномену выразительный
(
выразительность
) приписывается довольно широкая гамма разнородных признаков: живо и ярко отражающий внутреннее состояние, переживания, характер, хорошо, ясно выражающий что-либо, намеренно подчеркнутый, необычный, оригинальный, нестандартный, редкий, уникальный, лаконичный, красочный и др. Поэтому номинации
выразительный
и
выразительность
не могут иметь статуса терминов, они лишь частично могут заменять первые два термина – в таких ситуациях, когда речь идет не о семантике экспрессивов, а об их функционировании в устных и письменных высказываниях.
Свойство экспрессивности лексических единиц и их экспрессивные функции детерминированы их семантикой. Общим местом теории экспрессивности является признание коннотативной природы экспрессивности как лнгвистической категории. Но коннотация, а также количество выделяемых лингвистами коннотативных сем, порождающих «экспрессивный эффект», и их соотношение в ЛЗ слова интерпретируются по-разному, поэтому и основания экспрессивности получают различные толкования.
В освещаемой здесь концепции выделяется три семантических основания экспрессивности: в семантике ЭЛЕ в разных комбинациях, или «сочетаниях», представлены интенсивность, эмотивность или эмотивная оценка и образность. Компоненты эмотивность и эмотивная оценка не объединяются в границах одного и того же ЛЗ, данные семы относятся к разным значениям, исключая друг друга. Между ними отношения дизъюнкции. Эти три основания выделяются почти во всех исследованиях экспрессивности, а термины эмотивный, эмотивность, эмотивная оценка, введенные В. И. Шаховским [Шаховский 1987: 23–29] с целью разграничения эмоциональности
как свойства субъекта эмоционально воспринимать окружающий мир, эмоционально реагировать на ситуации и
эмотивности
как свойства языковых единицхорошо «встроились» в терминологическую систему, описывающую экспрессивность. С позиций когнитивной теории лексического значения, каждый из названных компонентов имеет когнитивную и психическую природу. Когнитивная природа языковых единиц обусловлена познавательной функцией языка, связанной с высшими психическими процессами, используемыми носителями языка для того, чтобы узнать, понять и объяснить окружающий нас мир, передать полученные знания от поколения к поколению. По словам В. Гумбольдта, «язык как бы обретает прозрачность и дает заглянуть во внутренний ход мысли говорящего» [Гумбольдт 1984: 171]. Результаты этих процессов вербализуются языковыми средствами, а последние являются выразителями наших мыслей и чувств.
Интенсивность, эмотивность, эмотивную оценку мы относим к коннотативной части ЛЗ ЭЛЕ, противопоставляя ее денотативной (или денотативно-сигнификативной, в другой терминологии – дескриптивной) части ЛЗ, а образность рассматриваем в качестве самостоятельного, целостного, неделимого компонента, равно связанного как с коннотативным, так и с денотативно-сигнификативным содержанием ЭЛЕ.
2. 1. Интенсивность
В исследованиях экспрессивности общепризнанным стало мнение о том, что одним из компонентов семантики ЛЕ является ‘высокая степень признака предмета, явления, действия / чрезмерность (гиперболизация) признака’. Этот компонент называется интенсивностью (наиболее распространенный термин), экспрессивностью(во втором, узком, значении этого термина), а также параметрическими параметрически-оценочным компонентом(Т. В. Матвеева). По определению Т. В. Матвеевой, он представляет собой квалификацию предмета с точки зрения полноты проявления свойственного ему признака [Матвеева 1986]. Интерпретация данного компонента как параметрически-оценочного
соответствует пониманию количественной оценки, выделяемой в системе частных оценок в философских работах. Тезис о том, что интенсивность «провоцирует» коммуникативную (речевую) экспрессивность (выразительность), – бесспорен. Однако именовать данный компонент термином экспрессивность нежелательно по той причине, что в системе терминов, описывающих экспрессивные единицы языка, он оказывается «задействованным» трижды: как обозначение, во-первых, общеязыковой категории, объединяющей экспрессивные интенсивы разных уровней русского языка; во-вторых, лексико-семантической категории – родовой по отношению только к ЭЛЕ (категории семасиологии и ономасиологии); в-третьих, – видовой, если ее связывать с экспрессивными интенсивами только лексического уровня. Тем самым размываются содержательные границы данного термина.
В одной из более ранних наших работ была выделена терминологическая оппозиция интенсивность – экстенсивностькак обозначение противопоставления увеличенного (усиленного) и уменьшенного (ослабленного) признака предмета, явления, действия, например: каланча
,
верста
,
жердь
,
жираф(а)
и
кнопка
,
пуговка
,
карлик
,
гном –
о человеке очень высокого – очень низкого роста;
мчаться, нестись
,
лететь
,
нестись сломя голову
,
наяривать
,
улепётывать
,диал.
завихе’ривать
и
тащиться
,
тащиться как черепаха
,
плестись
, диал.
канды’бать / шканды’бать
‘передвигаться очень быстро – очень медленно (о человеке)’. Однако позднее мы отказалась от этой оппозиции, считая, что целесообразно выделить не две, а одну абстрактную сему ‘преувеличение / преуменьшение меры, нормы признака’, которая вербализуется следующими метасловами и метасловосочетаниями, обычно используемыми в словарных толкованиях и называемыми интенсификаторами, по своей семантике это семантические примитивы (А. Вержбицкая, Ю. Д. Апресян):
очень
,
сильно
,
очень сильно
,
излишне
,
крайне
,
в высокой / низкой степени
,
в крайней степени
,
чрезвычайный
,
очень быстро / медленно
, а также
очень много / мало
,
в большом / малом количестве
,
огромное множество
и др. Данная сема «спаяна», «сращена» с другими семами значения ЛЕ, которые отражают тот признак предмета, другого признака, свойства или действие, процесс, который в нашем сознании представляется либо как интенсивный, либо как экстенсивный.
Интенсивность как семантический феномен мы связываем не с любой количественной квалификацией предмета, явления, а только с такой, которая демонстрирует отклонение от «нормальной меры», т. е. от зоны нормативности, от некоторого «нуля нормативности», и вследствие этого воспринимается нашим сознанием, в соответствии с определенными культурными установками говорящих, иначе, чем обычный, соответствующий некоторой социальной норме, или мере, предмет, явление.
Причем, ЭЛЕ актуализируют не преувеличение (усиление) или преуменьшение (ослабление) некоторого признака предмета, явления, а представление
говорящих о такой мере явления (количественный параметр), которая в культуре социума приравнивается к новому качеству. Так, глаголы
бежать
не передают представления о реально возможной степени быстроты бега (бежать можно очень быстро, очень-очень быстро, очень-очень-очень быстро, но не 3, 5 или 10 км в час) – он передает представление о некоторой социальной норме, «нулевой» степени меры. В отличие от него, глагол-метафора
лететь
выражает представление говорящих о гиперболизированном процессе и поэтому необычном по сравнению с процессом ‘бежать’.
Лететь
, а также
мчаться
,
нестись
,
нестись сломя голову
,
наяривать
,
шпарить,
диал
. завихе
׳
ривать
обозначают представления об ином качестве процесса ‘бежать’.
Приведем примеры. Глагол получить
‘взять нечто даваемое, приобрести вручаемое, предлагаемое, искомое’(деньги, книги, журнал, квартиру, звание) обозначает такое действие, которое может быть интерпретировано в аспекте его меры как соответствующее некоторой социальной норме, или «нулевой степени меры», и поэтому является номинативом в системе лексики: деньги и звания люди получают за свой труд, квартиру – например, по очереди, а книги и журналы – по подписке (как это было в советское время) или в дар, звания – за достижения в науке, искусстве, спорте и т. д. В отличие от него, глагол
заграбастать
актуализирует этот же смысл плюс еще признак ‘много / сверх меры’, который в контекстах репрезентируют также и различные языковые средства: местоимение
всё
,
все
(например: [О детях]
Заграбасталивсё, что осталось у отца
(разг. речь); [О директоре НИИ]
Заграбастал всезвания, какие только можно получить
(разг. речь)), наречие
много
, существительные с количественной семантикой
(заграбастали много
/
уйму денег)
и другие (например:
Заграбасталсразу две квартиры
,
для себя и для дочери
,
а люди остались без квартир
(разг. речь)). Данный глагол описывает ситуации иного плана, чем глагол
получить
: они связаны с нарушением морально-этической нормы:
заграбастать
– значит не столько ‘получить’, сколько ‘присвоить много, сверх меры чего-н., нечестным путем или используя свое служебное положение, родственные или дружеские связи, и т. п.’, а также ‘завладеть чужим, не заработанным самим, не принадлежащим тебе’, ‘отнять, захватить силой’. Своей внутренней формой глагол
заграбастать
соотносится с глаголом
грабить
, первичное значение которого – ‘сгребать сено или зерно в кучу граблями’, сохраняющееся в говорах
(Женщины всё делали
/
и коров доили
/
и в поле ро’били
/
и на сенокосе
/
сено грáбили.)
.
Задарить –
‘сделать много подарков, а также подкупить подарками’ (сему ‘много / сверх меры’ выражает приставка
за-
). Такое толкование дает, например, СОШ [1997: 203]. Значение данного глагола тоже можно интерпретировать как совмещенное, но оно поддается «расщеплению» на два значения: 1)
номинативное
– ‘преподнести, сделать много подарков кому-нибудь’ – вполне реальны ситуации, когда сделать много подарков кому-нибудь необходимо (например, к свадьбе, юбилею), а для кого–то это нормальное состояние: человек любит дарить подарки или дарит много подарков кому-то, уважая, любя данного человека (например, такая ситуация:
Дед задарил подарками свою любимую внучку
); 2)
экспрессивное
– ‘подкупить кого-н. многими / частыми подарками или большими деньгами, тем самым склонить на свою сторону в каком-либо деле, какой-либо ситуации, получив от этого необходимую выгоду, используя одариваемого в корыстных целях’, – а это уже является нарушением морально–этической и нравственной норм. Таким образом, оба лексико-семантических варианта (далее – ЛСВ) данного глагола обозначают меру действия, но различную: «нормативную» (первый ЛСВ) и «ненормативную» (второй ЛСВ). Но если в первом ЛСВ представлена только мера количества, которая в лингвистической интерпретации называется
интенсивностью
, то во втором ЛСВ количественная мера совмещается с «мерой» морально-этического качества.
Данный пример иллюстрируют положение о переходе количества в новое качество на уровне внеязыковой действительности. ЭЛЕ регистрируют результаты когнитивной обработки такой трансформации. А поэтому ЛЗ экспрессивов отражают не нарушение нормальной меры признака предмета, явления, действия, а представление
говорящих о таком нарушении (преувеличении). Таким образом, интенсивность экспрессива мы связываем с отраженным в его ЛЗ представлением о ненормативном (преувеличенном или преуменьшенном) в аспекте некоторой социальной меры, нормы признаке предмета, явления, процессе, действии.
В ментальном пространстве говорящих представление о высокой степени (признака предмета, действия, другого признака) либо существует как отдельная структура – образ (ср. репрезентанты адский
,
собачий
,
чертовский
(голод
,
холод) ‘очень сильный в своем проявлении’,
адская
,
бешеная
,
безумная
(скорость) – в словарях подобные метафоры подводятся под обобщенную схему толкования ‘высокая степень (в высокой, крайней степени) проявления признака’),либо воплощается в том образе, в котором мыслится предмет, явление, действие в его целостности. Например:
долговязый
‘очень + высокий, как правило, худой, нескладный (о лице мужского пола)’ (
долговязый
образовано путем сложения
долгий
‘длинный’ и
вязы
‘шея’, сохранившегося в некоторых говорах, первоначальное значение ‘длинношеий’),
долгоязыкая
‘слишком + болтливая (о лице женского пола)’,
звездануть
‘сильно + ударить кого–л.’; синонимы
поразить
,
огорошить, ошеломить
,
ошарашить
‘очень сильно + удивить кого-нибудь чем-либо’,
вожжáться
прост., неодобр.‘длительно + заниматься чем-либо; заниматься каким–либо делом, доставляющим + много + хлопот, труда; излишне + медленно и кропотливо делать что-либо’ (в СОШ этот глагол семантизируется через синонимический глагол
возиться
);
отбрыкаться
прост.‘долго + и упорно, + иногда путем обмана, + отказываться от чего-либо, + добившись своей цели’.
Представление о высокой степени признака предмета, явления связано как с рациональной, так и субъективной (эмоционально-психической) сферами сознания: с одной стороны, на уровне действ
⇐ Предыдущая11
Рекомендуемые страницы: