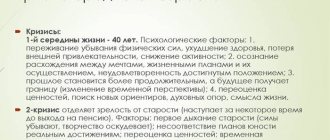Фото: sunmag.me
Ратмир Белов
Журналист-райтер
Человеческий разум в чрезвычайной ситуации может активировать многие защитные механизмы. Их задача — дать пациенту возможность выжить в хорошем психическом и физическом состоянии в очень тяжелых условиях.
Один из таких механизмов — стокгольмский синдром. Что означает этот термин? Как стокгольмский синдром проявляется в отношениях? Как может эффективно помочь жертве?
Что такое стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром — это концепция, придуманная в 1973 году шведским психологом Нильсом Бейеро. Он определял тип отношений, в которых жертва сочувствовала своему мучителю. Часто случалось, что пострадавший защищал своего палача перед судом и даже влюблялся в него.
Первоначально этот термин относился к довольно серьезным событиям, таким как похищения людей и недобровольное задержание. В настоящее время он также используется против жертв домашнего насилия и мафии на работе. Люди со стокгольмским синдромом, кажется, не замечают, что их мучитель причиняет им боль. Вместо того, чтобы пытаться противостоять ему, они учатся действовать так, чтобы доставить удовольствие. В результате обидчик меньше нервничает и относится к своей жертве более мягко, чем когда он сопротивляется.
Стокгольмский синдром в отношениях
Стокгольмский синдром связан с ситуациями, в которых жертва насилия сочувствует своему преступнику, чаще всего защищая его. Этот сценарий часто можно увидеть в токсичных соединениях. Слабая сторона в отношениях такого типа почти полностью зависит от преступника, который доминирует над ними.
Кто такой социопат
Стокгольмский синдром в отношениях, вопреки внешности, вовсе не редкость. Часто жертва физического или психологического насилия не замечает, что другой человек просто причиняет ей боль. Она преуменьшает значение проблемы, ссылаясь на стресс на работе и дома, плохое финансовое положение или даже берет на себя вину за расстройство преступника.
Фактором, определяющим возникновение стокгольмского синдрома в отношениях, является заниженная самооценка жертвы. Именно неуверенность в себе делает человека, подвергшегося насилию, благодарным своему мучителю за то, что он остается с ним. Жертва чувствует, что ничего не может сделать для улучшения текущего положения дел. Она убеждена, что не заслуживает ничего, кроме того, что получает сейчас, поэтому молча принимает удары и резкие слова.
Стокгольмский синдром в отношениях очень часто связан со смещением неприятных ситуаций в пользу приятных мелочей. Жертва заглушает воспоминания о перенесенных обидах, преувеличивая все добрые жесты и слова своего мучителя. Это, в свою очередь, не дает ей увидеть ничего плохого в плохом обращении со стороны партнера.
Стокгольмский синдром на работе
Стокгольмский синдром — это психическое состояние, которое проявляется в симпатии к мучителю, чаще всего к токсичному партнеру. Однако этот термин также охватывает ситуации, когда менеджер использует свое положение для устрашения сотрудника. Последний, в свою очередь, желая избежать конфликта, начинает оправдывать действия своего начальника и рассматривать их как нечто хорошее.
Стокгольмский синдром — это сознательное принятие жестокого обращения и объяснение поведения начальника, например, во благо компании. Люди, страдающие синдромом палача и жертвы, часто соглашаются на гораздо худшие условия, чем остальной экипаж. Часто они берут на себя больше обязанностей, чем могут, и работают в форме неоплачиваемых сверхурочных.
Парадокс перфекционизма
Также часто наблюдается, что изначально токсичные отношения между сотрудником и руководителем со временем превращаются в стокгольмский синдром. Это происходит потому, что жертва боится конфронтации, хочет избежать конфликта и поэтому принимает все больше и больше неудобств.
Стокгольмский синдром чаще всего поражает людей с низкой самооценкой. Вера в отсутствие квалификации и навыков для текущей работы позволяет жертве взять на себя вину за плохое обращение. Это мышление также заставляет человека бояться бросить свою нынешнюю работу. Она убеждена, что ее нынешняя работа — лучшее, что она может делать, и что она не найдет ничего лучше. Таким образом жертва дает тихое согласие на жестокое обращение, и начальник-мучитель умело этим пользуется.
Конечно, не всегда в ситуации жестокого обращения или моббинга у жертвы развивается стокгольмский синдром. Многое зависит от ее текущего финансового положения и первоначальной реакции на несправедливое отношение ее начальника. Также важно поддержать родственников, которые в нужный момент покажут жертве ее ошибки и помогут в борьбе с недобросовестным работодателем.
Войти на сайт
Когда-то мне на глаза попалась одна статья под названием «Девушка влюбилась в своего насильника». История повествовала о том, как 13-ти летнюю девочку изнасиловал парень, который был изрядно выпивший. После того, что сделал, он вдруг пообещал на ней жениться, когда та подрастет. Звали девочку Надя. После изнасилования она ничего не сказала родителям.
Надя занималась в спортивной секции по волейболу и летом попала на сборы в лагерь. На одной из утренних тренировок она упала в обморок и позже врачи сказали, что она беременна. Карьеру спортсменки ей пришлось бросить, так как она родила ребенка. После школы ей пришлось работать расклейщицей объявлений, а ребенка оставлять родителям.
Потом через много лет, когда она устроилась работать в туристическое агентство. Однажды, будучи в другой стране, она вдруг встретила в одном из магазинов своего насильника и после выяснения отношений и рассказа о сыне согласилась выйти за него замуж.
Всем окружающим эта история казалась очень странной, люди не понимали, как же Надя смогла простить надругательство над собой.
Сегодня мне бы хотелось пролить свет на эту историю с точки зрения системно-векторной психологии Юрия Бурлана.
Кто же она кожно-зрительная девочка и почему жертва влюбилась в насильника ?
Из статьи, по крайней мере по косвенным признакам, можно сделать вывод, что Надя была самой настоящей кожно-зрительной девочкой. О развитом кожном векторе может свидетельствовать то, что она для себя выбрала спортивную карьеру и даже готовилась к юношеской Олимпиаде. Именно люди с кожным вектором чаще всего стремятся к спорту.
У людей с кожным вектором обычно красивое тело – этому способствует идеальный метаболизм, который им свойственен.
Их природное желание всегда быть первыми толкает на то, чтобы выбирать для себя область деятельности, где необходимо соревноваться. Они имеют гибкое тело и такую же психику, которая легко приспосабливается к изменениям среды. Поэтому даже изнасилование, которое с ней случилось, могло пройти для нее без столь пагубных последствий как, например, для девочки с анальным вектором, которая из–за своего внутреннего разделения всего на «чистое» и «грязное» могла считать себя оскверненной и «грязной» на веки.
Но случилось так, что она забеременела и это полностью перевернуло ее жизнь, а значит, заставило отказаться от возможности дальше учиться и заниматься спортом.
Из статьи известно, что по какой-то причине Надя, возвращаясь с тренировки, через старую стройку, вдруг позволила подвыпившей компании подойти к себе.
Девочке тогда было 13 лет, и говорить о том, что она вполне осознавала опрометчивость такого поступка рано.
Они с ней шутили и заигрывали, а потом она позволила одному молодому человеку проводить себя до дома. После чего он затащил ее в развалины на стройке и изнасиловал.
Кожно-зрительная женщина – женщина особая, и даже если это еще не женщина, а девочка 12-14 лет, ее феромоны могли «снести голову» насильнику в два счета. Возможно, она даже флиртовала и кокетничала с молодым парнем, не задумываясь о том, к чему могут привести ее невинные заигрывания.
Но потом родительская поддержка в трудный момент помогла ей стать на ноги.
Несмотря на все неурядицы, Надя после изнасилования сумела реализовать себя в карьере: она начала работать в туристическом агентстве. Там она смогла путешествовать, тем самым получать возможность менять картинку перед глазами и доставлять наслаждение себе. И вот во время путешествия однажды она встретила его… Почему же случается так, что жертва любит насильника? Узнаем ниже.
Почему же Ослан изнасиловал Надю?
Как известно из системно-векторной психологии, изнасиловать женщину может только мужчина с анальным или мышечным вектором.
Анально-зрительные мужчины по своей природе из-за зрительного (культурного) ограничения первичных позывов на секс и убийство не могут быть такими грубыми как, например, анальный мужчина без верхних векторов. Поэтому они соблазняют свою жертву всеми возможными способами. Ведь у них есть не только анальный вектор, который при определенных обстоятельствах заставляет анального мужчину испытывать физическое влечение, но и зрительный, благодаря которому они могут всем сердцем полюбить свою «жертву» и даже пообещать жениться на ней.
Как было в случае с Надей мы до конца не знаем.
О том, что у Ослана есть анальный и зрительный вектор очень красноречиво свидетельствует также и дальнейшее описание событий.
Когда Надежда как лучший менеджер турфирмы отправилась на отдых в Турцию, то неожиданно встретила в магазине своего насильника. Он продавал сладости. Она его узнала. Вот как она вспоминала их встречу: «Заглянула в маркет, где продавали восточные сладости, и не поверила своим глазам: за витриной стоял в меру упитанный, коротко остриженный очкарик — тот самый, который много лет назад обесчестил меня на стройке, — вспоминает Надежда. — Едва сдержалась, чтобы не дать ему сумкой по морде».
В магазине было много покупателей, поэтому Надя не стала выяснять отношения при посторонних.
На другой день Надя вернулась в магазин, но обаяние насильника сделало свое дело и она передумала выяснять отношения.
Вот, что героиня говорит о своих чувствах: «Ослан был искренен и романтичен, соскучившаяся по мужскому вниманию, я забыла, зачем, собственно, пришла. Желание мстить исчезло, уступив место симпатии».
Во внезапной влюбленности Нади могло быть несколько причин. Во-первых, это свойство гибкого кожного ума ориентироваться в обстоятельствах и искать для себя выгоду в сложившейся ситуации. Она поняла, что Ослан достаточно обеспеченный мужчина. Ведь у него в Турции свой небольшой дом и семейный бизнес вместе с сестрой. Если мужчина хорошо зарабатывает, то у нее и ее сына всегда будет обеспечение, которое мужчины всегда давали кожно-зрительной женщине.
О своем желании отомстить Надя слукавила. Кожно-зрительные женщины мстить не умеют, ведь чувство мести свойственно только людям с анальным вектором. Именно они, благодаря хорошей памяти, могут обидиться на всю жизнь и отомстить даже через десять лет. У людей с кожным вектором «память короткая», поэтому они отходчивы и даже, угрожая отомстить, быстро остывают. А вот ситуация, когда жертва влюбляется в насильника, вполне реальна. Ведь кожно-зрительные женщины любят, когда к их чувствам относятся с трепетом и отвечают взаимностью на эмоциональную связь. Анально-зрительные мужчины действительно умеют быть романтичными и красиво ухаживают. При правильном развитии именно из них вырастают самые заботливые сыновья и мужья.
Иногда ошибки молодости всю жизнь напоминают о себе анально-зрительному мужчине. Так было и с Осланом. Он с сожалением вспоминал, что однажды в Орле попал в , признался и в том, что жестоко обидел одну девочку, когда еще жил в Орле.
Помнить всю жизнь о своих проступках также могут только люди с анальным вектором. Чувство вины может преследовать их всю жизнь. Чувство вины для анальника является противоположным от чувства обиды. Обида возникает, когда человеку с анальным вектором чего-то недодали, а чувство вины от того, что он чего-то не дал человеку или совершил низкий поступок.
Когда Ослан вспомнил про случай в Орле, Надя рассказала ему всю правду про себя и сына. Он был очень рад, что у него есть сын. Спрашивал о нем множество подробностей, а потом предложил Наде выйти за него замуж. И она согласилась.
Эта история закончилась благополучно, но бывает и другой сценарий развития между насильником и жертвой. Случается он тогда, когда кожно-зрительную женщину убивает анально-обонятельный мужчина. О том, почему палач и жертва по безсознательному сговору идут на встречу губительному концу, Вы сможете узнать на тренинге по системно-векторной психологии Юрия Бурлана
Статья написана по материалам тренинга по системно-векторной психологии Юрия Бурлана
Автор: Наталья Таральчук
Как распознать
Стокгольмский синдром — это форма защитного механизма, предназначенная для защиты жертвы от агрессии мучителя. Такое состояние ума активируется в ситуациях, когда обострение конфликта может привести к физическому и психологическому насилию. Его цель — изменить подход жертвы к ее палачу и действовать в соответствии с его инструкциями, чтобы не позволить ей причинить вред. Но как узнать, что о наличии стокгольмского синдрома?
Стокгольмский синдром возникает, когда пострадавший:
- не считает причиненный ей вред страданием
- преуменьшает ситуацию
- объясняет действия своего мучителя
- не принимает никаких аргументов или доказательств того, что с ним плохо обращаются
- агрессивно реагирует на любую попытку внешнего вмешательства
- воспринимает любое предложение изменить текущее положение дел как личную атаку
- помогает преступнику скрыть доказательства своего «преступления», например, с помощью сильного грима
- имеет сходные с его палачом взгляды на многие ключевые вопросы, такие как религия или политика
- чувствует привязанность к данному человеку, не видит выхода из данной ситуации
- убеждена, что ничего лучше в ее жизни не придет, чем то, что у нее есть сейчас
- сосредотачивается в основном на положительном поведении своего палача, игнорируя те, в которых она ранена
- не убегает от мучителя, даже если у нее есть возможность сделать это
Как перестать быть жертвой
Стокгольмский синдром. Парадоксы сознания жертвы
Явление, которое было названо «стокгольмским синдромом» в связи с известными событиями в Стокгольме в августе 1973, действительно принято считать парадоксальным, а возникающую у некоторых заложников привязанность к похитителям — иррациональной. Что же происходит на самом деле?
7 10164 14 Октября 2013 в 04:02 Автор публикации: Павел Головаш, юрист
СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ — парадоксальная реакция привязанности и симпатии,
возникающая у жертвы по отношению к агрессору.
Явление, которое шведский криминалист Нильс Бейерот в связи с известными событиями в Стокгольме в августе 1973 года назвал «стокгольмским синдромом», действительно принято считать парадоксальным, а возникающую у некоторых заложников привязанность к похитителям — иррациональной. На первый взгляд, так оно и есть, ведь мы внешне наблюдаем ситуацию, когда человек эмоционально привязывается к тому, кого (по всем правилам здравого смысла) он должен ненавидеть. В этом и заключается так называемый психологический парадокс, который на самом деле таковым не является, а представляет собой вполне естественный способ адаптации к экстремальным условиям людей с определенным набором векторов. О них пойдет речь далее после короткого описания событий, которые и дали название «стокгольмский синдром» этому феномену.
Стокгольм, 1973 год
23 августа 1973 года некий Ян Улссон, бывший заключенный, ворвался с оружием в банк Kreditbanken в Стокгольме и взял в заложники работников банка — трех женщин и мужчину, а также одного клиента банка. При попытке двух полицейских штурмовать банк Улссон ранил одного из них, а второго тоже взял в заложники, но вскоре отпустил вместе с клиентом. По требованию Улссона в помещение банка из тюрьмы был доставлен его друг-сокамерник Кларк Улофссон.
Выдвинув свои требования к властям, Улссон и Улофссон закрылись вместе с четырьмя пленными в помещении бронированного хранилища банка площадью 3 х 14 м, где удерживали их в течение шести дней. Для заложников эти дни были очень тяжелыми. Сначала они были вынуждены стоять с петлей на шее, которая душила их при попытке сесть. Два дня заложники не ели. Улссон постоянно грозил их убить.
Но вскоре, на удивление полиции, у заложников возникла непонятная привязанность к похитителям. Пленный менеджер банка Свен Сефстрем после освобождения заложников отзывался об Улссоне и Улофссоне как об очень хороших людях, а во время освобождения вместе со всеми пытался их защищать. Одна из заложниц, Бригита Лунберг, имея возможность убежать из захваченного здания, предпочла остаться. Другая заложница, Кристина Энмарк, на четвертый день по телефону сообщила полиции, что хочет уехать вместе с похитителями, поскольку они очень сдружились. Позже две женщины рассказали о том, что добровольно вступали с преступниками в интимные связи, а после освобождения из плена и вовсе обручились с ними, даже не дождавшись их выхода из тюрьмы (одна из девушек была замужем и развелась с мужем). Хотя дальнейшего развития эти необычные отношения так и не получили, но Улофссон после выхода из тюрьмы еще долго дружил с женщинами и их семьями.
При рассмотрении этого случая с точки зрения системно-векторной психологии сразу же бросается в глаза описание внешности заложников:
— Бригита Лунберг — эффектная светловолосая красавица;
— Кристина Энмарк — энергичная, жизнерадостная брюнетка;
— Элизабет Ольдгрен — миниатюрная блондинка, скромная и застенчивая;
— Свен Сефстрем — менеджер банка, уверенный в себе, высокий, красивый холостяк.
Первые две девушки, которые, собственно, и влюбились на короткое время в своих мучителей, явно обладательницы кожно-зрительной связки векторов. То же можно сказать о менеджере банка Свене Сефстреме и, скорее всего, о третьей служащей, Элизабет Ольдгрен.
Захватчики Ян Уллсон и Кларк Улофссон, несомненно, звуковики, о чем говорит их поведение во время захвата, биографии, внешность. Исходя из этого, легко понять то, почему столь теплое отношение захваченных к захватчикам сформировалось так быстро и было таким сильным. Звуковой и зрительный — векторы из одной квартели, как патрица и матрица, дополняющие друг друга, при этом зрительник бессознательно тянется к звуковику одинаковой с собой развитости, как к «старшему брату» по квартели. Звуковик слышит ночью, когда зрительник не видит — такова в образном выражении основа их взаимоотношений.
Заложник со зрительным вектором (даже развитый) способен провалиться от сильного стресса в архетипичный страх и по равенству внутренних состояний может бессознательно тянуться к травмированному звуковику-психопату. Если же агрессором является более развитый, идейный звуковик, то зрительник как бы подтягивается к его уровню развития и на этом уровне начинает с ним взаимодействовать (например, перенимая его идеи, считая их своими). По этой причине самые яркие проявления стокгольмского синдрома встречаются именно во время политических терактов, которые, как правило, не совершает никто, кроме идейных звуковиков либо звуковиков-психопатов.
При этом данный фактор комплементарности векторов хоть и имел место во время событий в Стокгольме, но стал лишь катализатором, а не основной причиной возникшей симпатии зрительных жертв к своим звуковым захватчикам. Основная причина — в наличии кожно-зрительных связок векторов у жертв, что, как уже было сказано, обуславливает определенный способ их адаптации к сверхстрессовым условиям — через создание эмоциональной связи.
Кожно-зрительная женщина
Женщины с кожно-зрительной связкой векторов в первобытные времена выполняли видовую роль дневных охранниц. Они были единственными женщинами, которые шли на охоту вместе с мужчинами. Их задача заключалась в том, чтобы вовремя заметить опасность и предупредить о ней остальных. Так, пугаясь хищника, кожно-зрительная женщина испытывала сильнейший страх смерти и источала феромоны страха. Неосознанно почувствовав этот запах, ее соплеменники тут же пускались в бегство. Если же она поздно замечала хищника, то из-за своего сильного запаха первой попадала в его лапы. Так было на охоте. А в первобытной пещере стая в определенных случаях могла принести кожно-зрительную самку в жертву.
Как нам известно из системно-векторной психологии, ранние жизненные сценарии являются фундаментальными в нашем поведении. Это значит, что они никуда не исчезают в процессе развития, а становятся основой для нового его витка. Так же постепенно развивался из состояния страха в состояние любви и зрительный вектор в лице кожно-зрительной женщины. В военных и охотничьих походах, наблюдая за увечьями и смертями мужчин, она постепенно училась смещать угнетающий ее страх за собственную жизнь на них, превращать его в сострадание к раненым и умершим и таким образом чувствовать уже не страх, а сострадание и любовь. Одновременно с этим, как и любая другая женщина (особенно с кожным вектором), она стремилась получить от мужчин защиту и обеспечение, взамен давая им возможность случаться с собой. Эти две составляющие и легли в основу того, что называется сегодня сексом, создательницей которого является именно кожно-зрительная женщина. Секс отличается от простой животной случки наличием эмоциональной связи между мужчиной и женщиной. У людей, в отличие от животных, он сопровождается сильными эмоциями.
В более поздние, исторические времена, когда видовая роль дневных охранниц стаи была уже не нужна, кожно-зрительные женщины продолжали ходить вместе с мужчинами на войну уже в качестве медсестер, где проявляли свою способность к состраданию в намного большей мере и уже без вступления в интимные связи для обеспечения своей безопасности. Наоборот, в истории есть множество фактов самопожертвования таких женщин, что свидетельствует о намного более высоком их развитии в своем зрительном векторе по сравнению с доисторическими кожно-зрительными самками. Эти женщины уже были способны не просто на эмоциональную связь, а и на высокие чувства, на любовь.
Развитие отношений кожно-зрительной жертвы и агрессора
Естественно, что для любого человека внезапная и реальная опасность его жизни — это сверхстресс. А сверхстресс, как это известно в системно-векторной психологии, способен сбросить в ранние архетипичные программы даже человека, максимально развитого в своих векторах, откуда ему придется заново выкарабкиваться «наверх». В том числе это касается кожного и зрительного векторов.
В кожном векторе первая реакция на появление людей, размахивающих оружием, — сильная потеря ощущения равновесия с внешней средой, в зрительном — дикий страх за собственную жизнь. На этой стадии кожно-зрительная женщина не способна ни на что, кроме демонстрации подчинения и громадного выброса в воздух феромонов страха, что лишь разъяряет агрессора и не дает жертве никакой особой уверенности в сохранении ее жизни.
Но далее жертва начинает бессознательно искать возможности для того, чтобы прийти в какой-то баланс с внешней средой, и здесь ей не на что полагаться, кроме как на свои врожденные психические свойства (векторы). Она проявляет гибкость и адаптивность в кожном векторе, а также бессознательно выстраивает с агрессором зрительную эмоциональную связь, проявляя к нему сочувствие, при этом цепляясь за самые невероятные и надуманные подтверждения того, что агрессор «хороший», приводя множество рациональных объяснений, почему это так («он жесткий, но справедливый», «борется за правое дело», «жизнь вынудила его таким стать» и т. д.). Одновременно она ищет у него защиты как у мужчины. То есть действует в соответствии с ранним сценарием кожно-зрительной самки.
В необычных условиях формируется, соответственно, необычная мысль, обеспечивающая желание сохранить себя.
И даже после того, как стрессовая ситуация исчерпает себя, эти эмоции остаются, поскольку дают недавней жертве чувство зрительной радости, которое ей (бессознательно) не хочется менять на ненависть к человеку, причинившему ей столько бед. Таким образом, о преступнике даже по прошествии многих лет вспоминают как о «хорошем человеке».
Другие примеры
17 декабря 1998 года посольство Японии в Перу было захвачено террористами во время приема гостей по случаю дня рождения императора Японии. Террористы, представители экстремистской организации «Революционное движение имени Тупака Амара», взяли в плен 500 высокопоставленных гостей, прибывших на прием, и потребовали выпустить из тюрем около 500 своих сторонников.
Через две недели в целях облегчения контроля над заложниками половину из них освободили. На всеобщее удивление, освобожденные заложники начали выступать с публичными заявлениями о том, что террористы правы, а их требования справедливы. Более того, они рассказали, что, будучи в плену, не только симпатизировали террористам, но ненавидели и боялись тех, кто мог пойти на штурм здания. О звуковом Несторе Картоллини, главаре террористов, также отзывались очень тепло. Бизнесмен из Канады Кьеран Мэткелф после того, как его освободили, говорил, что Картоллини «вежливый и образованный человек, преданный своему делу» (вежливый, образованный — вербальные ключевики, выдающие у Мэткелфа зрительный вектор; преданный своему делу — кожный ключевик, естественно — какой бизнесмен не обладает кожным вектором?).
Еще один случай произошел в Австрии. Молодая девушка Наташа Мария Кампуш в 1998 году была похищена неким Вольфгангом Приклопилем, который посадил ее в свой подвал и продержал там 8 лет. Имея не одну возможность сбежать, она все же предпочитала остаться. Первая же попытка ее побега была удачной. Приклопиль, не пожелав попасть в тюрьму за совершенное преступление, покончил с собой, а Наташа потом в многочисленных интервью отзывалась о нем очень тепло, говорила, что он был очень добр по отношению к ней и она будет за него молиться.
Наташа не решалась сбежать, поскольку за годы изоляции все зрительное (эмоциональное) и кожное (мазохистское) наполнение ее векторов сосредоточивалось на единственном человеке, с которым она контактировала.
Заключение
Естественно, все описанные психические процессы — глубоко бессознательны. Ни одна из жертв не понимает настоящих мотивов собственного поведения, реализует свои поведенческие программы неосознанно, повинуясь внезапно возникающим из глубины подсознания алгоритмам действий. Естественное внутреннее устремление человека ощущать безопасность и защищенность пытается взять свое в любых, даже самых жестких условиях, и использует для этого любые ресурсы (в том числе и того, кто эти жесткие условия создает). Использует, ни о чем нас не спрашивая и почти никак не согласовывая это с нашим здравым смыслом. Нужно ли говорить о том, что такие бессознательные программы поведения далеко не всегда работают эффективно в нестандартных условиях, как, например, тот же захват заложников или похищение (как в истории с Наташей Кампуш, потерявшей 8 лет жизни из-за неспособности отказаться от эмоциональной привязанности к своему мучителю).
Известно множество случаев, когда заложники, первыми увидев штурмующих здание полицейских, предупреждали террористов об опасности и даже заслоняли их своим телом. Часто террористы прятались среди заложников, и никто их не выдавал. При этом такая самоотверженность, как правило, односторонняя: захватчик, в большинстве случаев не имеющий сколько-нибудь развитого зрительного вектора, не чувствует того же по отношению к захваченному, а просто использует его для достижения своих целей.
Корректор: Наталья Коновалова
Автор публикации: Павел Головаш, юрист
Статья написана по материалам тренинга «Системно-векторная психология»